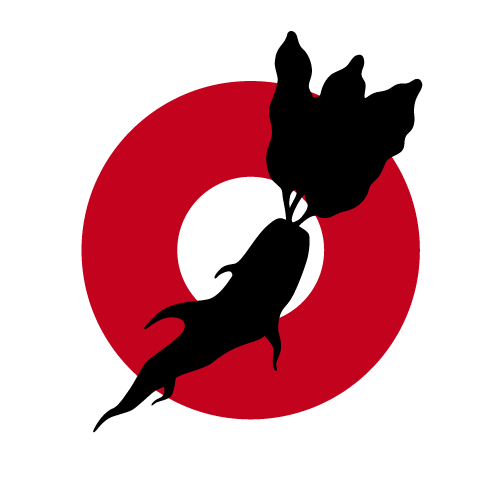В одном своем посте, посвященном Ефремову, я упомянул тот факт, что вышедший в свое время роман «Туманность Андромеды» показал довольно странную особенность тогдашнего общества. Она состояла в том, что основная масса читателей – в большинстве своем, молодежи, но не только – оказалась от него в восторге, выстаивая очереди вначале за «Техникой-молодежи», где печатались главы романа, а затем – за книжным изданием. А вот «литературный мир» прореагировал на данное событие довольно холодно. Надо сказать, что Ефремов в то время уже состоял в Союзе Писателей, и, в общем-то, считался небесталанным литератором. Тем более, что об его рассказах хорошо отзывался сам Алексей Толстой. Тем не менее, оглушительный успех нового романа литературной среде показался незаслуженным, причем, в основном, автора обвиняли в двух вещах. В «плохом языке», и «картонности героев» и натянутости сюжета.
«Плохой язык» мы пока оставим – хотя надо будет сказать и про него – и обратимся к последнему «обвинению». Надо сказать, что оно для середины 1950 годов выглядело довольно странно – в том смысле, что литература этого времени еще несла значительный дидактический заряд, и упрямо-положительные слесаря и доярки наполняли страницы множества книг. А если так, то высказывания о «недостоверно выписанных» экипажах межзвездных кораблей, отправляющихся в путь в далеком будущем, выглядят крайне странно! (Сам Иван Антонович впоследствии говорил то ли про тысячу, то ли про две тысячи лет, отделяющих мир «Туманности Андромеды» от 1950 годов.)
Однако причина, благодаря которой Дар Ветер и Эвда Наль выглядели для тогдашних критиков более неправдоподобными, нежели бесчисленные герои соцреалистической литературы, все же была. И состояла она в том, что указанная «положительность» последних неявно полагалась нормой, утверждаемой «свыше». В том смысле, что реально «все» (то есть, литераторы и критики) понимали, что «нормальный человек» должен вести и думать несколько по другому, но… В общем, нет ничего плохого в том, чтобы писать на нужные государству темы – и за это получать гонорар. Да и особо затрагивать реалистичность «строителей социализма» выглядело чревато – не дай бог, не того помянешь… Ефремовский же «мир» по всем параметрам совершенно не подходил под указанную категорию «отработки госзаказа» — что создавало у критиков известный диссонанс. Они видели нечто невообразимое: то, что человек сам, добровольно (!) занимался коммунистической пропагандой, причем даже не ожидая какого-то особого вознаграждения! (То, что роман расхватали читатели, создав на него ажиотажный спрос – вопрос другой.) Поэтому «натянутая положительность» ефремовских героев казалась очень странной: понятно, почему подобное делают для пропагандистских, «плакатных» вещей, но ведь «Туманность» однозначно не плакат, не агитка. А значит – это какой-то выверт мозгов автора, не желающего видеть, что «нормальные», живые люди ведут себя по-другому.
* * *
Про то же, что ефремовские герои могут иметь хоть прямую связь с реальностью, никто из литературной и окололитературной «братии» вообще предположить не мог. (Как, кстати, и то, что значительная часть героев соцреализма – всех этих слесарей и доярок – так же могла иметь своих живых прототипов.) Причина этого проста, и состояла она в том, что Иван Антонович – как уже не раз говорилось – выходил из совершенно иной среды, нежели они. Во время своей научной деятельности он имел крайне обширные контакты со всеми слоями населения нашей огромной страны, причем, зачастую – в самых экстремальных условиях. В которых человек или полностью ломался, или же демонстрировал гораздо более высокие качества, нежели обычно. Собственно, именно наблюдение данного процесса и стало основанием для исторического оптимизма Ефремова – поскольку он видел, что человек может быть лучше и сильнее, нежели это принято считать. (Впоследствии писатель даже посвятил указанному явлению целую книгу – «Лезвие бритвы».) И, разумеется, именно на основании данных наблюдений он и конструировал свое общество будущее.
Но разумеется, можно легко догадаться, что большинство представителей «литературной среды» ни с чем подобным никогда не сталкивались. Там господствовали совершенно иные нравы. Впрочем, так же, как среди «бомонда» научного. Именно последний факт и привел к тому, что Иван Антонович покинул науку вскоре после того, как по состоянию здоровья потерял возможность активной «полевой работы»: «кабинетная работа» с обязательным е участием в разного рода аппаратных играх была для него сущей мукой. Писательский труд в этом плане выглядел удобнее – поскольку в условиях отсутствия потребности получения «государственных плюшек» тут еще можно было как-то отказаться от участия в вечных «крысиных бегах». Но, разумеется, подобное положение для Ефремова было возможным только благодаря тому, что он уже имел определенную «писательскую славу», да и вообще, большинство благ –и значит, мог вести себя полностью независимо относительно «писательской тусовки».
Большинство же ее участников подобной форы не имели. Что вело к тому, что они были вынуждены большую часть своей жизни тратить на, чтобы приспосабливаться к творящимся тут нравам с требующимися для них человеческими качествами. Ну, возможно, некоторые из тех, кто пришел в литературную жизнь из жизни «обычной», еще помнили, что может быть что-то иное, за пределами подобной «крысиной жизни». Однако и они чем дальше, тем меньше верили в то, что подобное возможно. (Отсюда и идеи о том, что: да, были люди в наше время…) Ну, а те, кто вливался в указанную среду юности – та самая, «потомственная интеллигенция» — вообще считали иное поведение дурной идеализацией. Именно они впоследствии начали «протаскивать» в литературу и искусство «скрытых» негодяев, маскируя это «сложными характерами» — просто потому, что только подобных типов видели вокруг. (Интересно, что подобный «реализм» Ефремов считал недопустимым – о чем писал, например, в своей «Лезвии».)
Кстати, потом данный процесс пошел «по нарастающей» — скрытые негодяи превратились вначале в открытых, а затем и вообще, в откровенных извращенцев и прочую мразь. А все потому, что поколения, существующие в условиях, когда реальна только непрерывная конкуренция за блага друг с другом, ничего другого просто представить не могут. Впрочем, о данной тенденции в развитии – а точнее, деградации – искусства надо говорить отдельно. Тут же можно отметить только то, что принятии мерзости «тусовочной среды» за мерзость человека вообще есть явление старое и крайне опасное. На самом деле, оно сломало жизнь ни одному талантливому автору, который, неизбежно погружаясь в «среду», со временем «поглощался» ей целиком. Что неизбежно вело, в лучшем случае, к алкоголизму, мезантропии, депрессии – а в худшем случае, и к потере ценности жизни. (Достаточно вспомнить, сколько талантливых литераторов закончило жизнь добровольно. И в этой связи я хочу вспомнить другого гениального автора, которого, в определенной степени, можно противопоставить Ефремову.
* * *
Не удивляйтесь – но речь идет о Михаиле Афанасьевиче Булгакове. Конечно, может возникнуть вопрос: но как? Почему Булгаков – автор гораздо более «высокого уровня», нежели Ефремов – оказывается его антиподом. Но все просто – дело в том, что речь идет всего лишь об одной особенности творчества, а именно – об отношении к человеку и его развитию. Дело в том, что в своих произведениях Михаил Афанасьевич высказывается об указанной теме довольно. А именно – он указывает на то, что такового развития быть не может, а происходит скорее обратный процесс. Ну, в качестве хрестоматийного примера тут можно привести «Собачье сердце», которое является буквально гимном «антиэволюционизма», и направлено вовсе не против «шариковых» и «швондеров» — как это считается обыкновенно. Нет, что вы – последних Михаил Афанасьевич даже не воспринимает, как оппонентов. Главной его мишенью оказывается иное – идея того, что «человека можно сделать лучше», изменив условия его жизни и активно воспитывая. То есть – практически то самое, что составляет главную часть философии Ефремова.
Но данная идея, как известно, была вообще базовой для Советского проекта – именно на ее основании и была осуществлена масштабная перестройка огромной страны. Тем не менее, Булгаков не принимал ее до самого конца жизни – в последнем своем романе «Мастер и Маргарита» он утверждает то же самое, достаточно вспомнить знаменитое: «обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их». (Кстати, если «испортил» — то значит, они стали хуже.) Впрочем, указанный роман надо рассматривать отдельно — поскольку, помимо мизантропии, в нем можно найти немало ценной информации об миропонимании определенных кругов того времени. Тут же можно упомянуть только то, что уверенность в ухудшении «человеческого материала» у данного автора всегда оказывается связанным практически с тем же, с чем у Ефремова – уверенность в возможности преодоления Инферно. С окружающими его условиями. Дело в том, что Булгаков всегда описывает ту самую «художественную среду», то есть – писателей, режиссеров, артистов, журналистов и т.д.
Почему так происходит – понятно: сам Михаил Афанасьевич все советское время был связан именно с ними. Врачебная практика была им оставлена еще в 1920 году, когда, будучи военврачом Добровольческой Армии, он пережил поражение в Гражданской войне. Впрочем, тут нет смысла подробно разбирать, почему Булгаков превратился из медика вначале в журналиста, а затем – в литератора и драматурга. Можно только отметить то, что подобная смена деятельности в начале 1920 годах была довольно распространена – литературный труд в эти годы привлекал огромное число людей самых разных профессий. Видимо, было тогда нечто особенно важное для творчества – что само по себе есть вещь, обладающая особой ценностью для человека. Тем не менее, указанное погружение в «художественную среду» — как уже было сказано – оказалось для Михаила Афанасьевича причиной того, что он потерял возможность видеть иные человеческие образы, нежели те, что господствовали тут. Видимо, тут сыграло свою роль и «происхождение»: тот факт, что Булгаков происходил из крайне низкоинфернальной среды дореволюционной высшей интеллигенции – его отец был профессором –
приводил к тому, что, сравнивая то, что было, и то, что стало, он мог видеть только ухудшение и рост Инферно. (Хотя для большинства людей наблюдался обратный процесс.)
В любом случае, полностью отдавшись литературной и театральной «тусовке», и, в лучшем случае, контактируя помимо нее с представителями столичных служащих, то есть, практически с той же –по применяемым моделям поведения, средой – он просто не мог не принять идею о неизбежном «ухудшении» людей. Кстати, интересно то, что данная «модель» была, в конечном итоге, отвязана им от Советской власти– и воспринята просто, как историческая закономерность. (То есть – Булгаков не антисоветчик, как обычно считается, его отношение к людям имеет иную природу.) Именно подобное можно увидеть в «Мастере и Маргарите» — где автор почти полностью отдается гностической доктрине об ухудшении мира и о необходимости спасения из него. Любыми путями – в том числе, и через обращения к самым хтоническим силам. (Разумеется, из этого не следует, что Михаил Афанасьевич стал гностиком – он, конечно, знал о данном учении, но первичным для него было иное.) Впрочем, как уже говорилось, рассматривать «Мастер и Маргариту» надо отдельно. Тут же можно отметить только то, что очевидная ограниченность «ойкумены» данного произведения «литературно-театральными кругами» в совокупности с «совслужащими» прекрасно показывает, что же реально лежало в основании показанного инфернального мира. (Ну, а всевозможная чертовщина и гностицизм — это только маска для его выражения.)
* * *
Ну, а самое интересно тут — это, пожалуй, тот факт, что, начиная со своего самого первого издания, указанный роман оказался откровенным бестселлером среди этих самых «художественных кругов». Несмотря на то, что именно они были тут показаны в самом отвратительном виде. (Кстати, то же самое можно сказать и про иные произведения авторам – например, «Театральный роман».) Что прекрасно показывает, насколько велико было у Булгакова «попадание в волну» — в смысле, полное соответствие описанных героев представлениям своих читателей. Сам Михаил Афанасьевич, кстати, немало повеселился бы, если бы узнал, что в будущем его же «герои» сделают из его книг себе культ. Впрочем, и «не его героям» так же данная литература оказывается очень полезной – хотя бы для того, чтобы лучше видеть мерзости указанного бытия, и постараться в них не «вляпаться». Ну, и разумеется, для того, чтобы понимать, что же в существующей советской действительности было «не так» – в смысле, несоветским и даже антисоветским.
Впрочем, это будет уже совершенно иная тема. Тут же, завершая начатый разговор, можно сказать только то, что и ефремовская вера в возможность возвышения человека, и булгаковская уверенность в том, что человек нельзя исправить, показывают, прежде всего, потрясающую сложность и неоднородность самой советской культуры. В которой – что уж тут скрывать – так и не смог случиться столь необходимый перелом в сторону возвышения, который в 1920 годы казался столь близким. Но что поделаешь, социодинамика – штука сложная, и в ее рамках одномоментно взять – и ввести прогресс, разумеется, невозможно. Наоборот, тут требуется кропотливая и долговременная работа, которая, впрочем, обязательно должна завершится победой. Впрочем, о том, почему и как это произойдет – надо говорить отдельно…