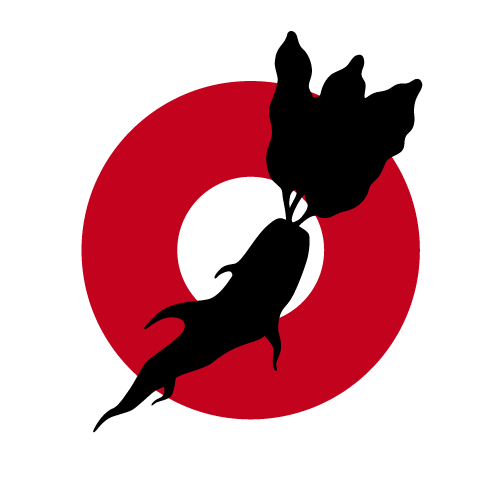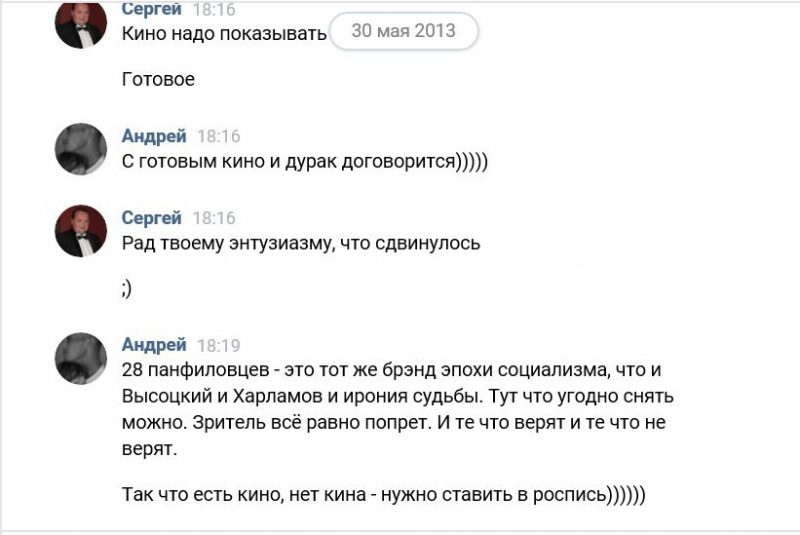Война… Это социальное явление – одно из самых противоречивых и жестоких. Войны сопровождают человечество со времен появления первых инструментов идентификации «свой-чужой». Зачастую, бывало достаточно всего лишь этого разделения, чтобы начать кровопролитие. Войну воспевали в героических песнях и сказаниях, проклинали в книгах и стихах, обожествляли и объявляли «священной»…
Но всегда и везде находились люди, для которых убийство себе подобных само по себе являлось противоестественным, органически отторгаемым действием, разрушающим их личность и психику… Их презирали как «трусов и предателей», казнили, предавали анафеме – но они, с упорством достойным восхищения защищали свой выбор.
Многие, особенно те, кто не воевал, могут сказать, что войны бывают разные, в том числе — «справедливые» и «священные». Что долг каждого гражданина защищать свою страну, Родину, государство… Да, это так. Однако, в истории человечества таких «справедливых» и «священных» войн по пальцам пересчитать можно, да и, кроме того, они всегда есть ответ на агрессию и алчность захватчиков…
Мы не собираемся оправдывать трусость и предательство как таковые, но хотим напомнить вам, ЧЕМ была WWI.
Жаль, что героям нужно давать имена,
после этого трудно представить себя на их месте.
Хорошо, что можно не выписывать их портреты,
это уравновешивает шансы.
Александр Варский
С утра прояснилось. Дым, мешавший вчера видеть дальше пяти шагов, совсем рассеялся, гарь почти не чувствовалась в отдохнувшем за ночь воздухе. Спирт уже выпит. Мы сидели на дне окопа и ждали. — Скоро начнется обстрел, — заметил Джонни, задумчиво пожевывая травинку. — Как мне все это остохренело! — вступил Серега и сплюнул под ноги. Я достал из нагрудного кармана линялого кителя мятую пачку жвачки, закинул в рот пластинку, не ощущая вкуса принялся жевать. — Домой хочу, в Москву, — Серега мечтательно зажмурился. — Хорошо тебе. А мне некуда хотеть, — тускло произнес Джонни. — Чикаго больше нет… Никого нет… Гребанная война!
Я промолчал. Пусть выговорятся. Так легче на этой бесконечной войне. Материться и тяпать спиртяру. Потом с диким криком нестись в атаку за мертвые, ничего не значащие, идеалы. Да пропади они пропадом! После боя ненадолго выстегнуться, давая отдых перетруженным мышцам. С утра опять маты и спирт. Так легче.
— А ты чего молчишь?! — Серега ткнул меня в бок. — Ты чего хочешь? — Покоя. И завыла сирена. Пули свистят и тупо бьются в тела людей, осколками разлетаются снаряды, разбивая в осколки жизни, и несется над землей тяжелый и горький дым войны, сожравший синеву неба и задушивший солнечный бриз. Я плюю в лицо войне, как всегда, когда удается удержать палец, не дав ему надавить на спуск. Я плюю в лицо войне не в силах сделать что-нибудь еще, ну хотя бы погрозить ей кулаком. Я слишком сильно устал…
***
Сегодня выходной. Перемирие по всем фронтам. Война вернется завтра, просто обыкновенная рабочая неделя. А пока можно расслабиться. Можно даже сходить вечером в гости за линию фронта. Некоторые так и делают. В карты играют. На интерес. Деньги? Что они значат теперь? А недостатка в снаряжении ни у нас, ни у них нет. Потому на интерес. Днем обе стороны собирали своих мертвецов. Когда-то ведь нужно и прибираться. Втроем и мы штук пятьдесят сволокли в братуху. В котелке закипела вода, Джонни размял в руках листья брусники и мяты, бросил в воду. Будем пить «чай». Это позволит на мгновенье представить, что ты дома, отдыхаешь после трудового дня. Иначе, становиться слишком холодно жить.
— Мужики! — говорит вдруг Серега, — А вы думали, чем займетесь после войны? — Не-а, — вяло откликается Джонни.
Я молчу, зачерпнув чашку, делаю вид что пью. — А я думал. Приеду домой и пойду по друзьям, по подругам. Как же я давно их не видел! А еще, часами буду бродить по Москве, покуда ноги не собью в кровь… Вы знаете, какой красивый рассвет под Москвой?.. — Серега продолжает говорить, но я его уже не слышу…
Что я буду делать, когда кончится эта ВОЙНА? Не знаю. Я уже забыл, кем был до нее. И я не могу понять, кем стал теперь. Кого из меня сделала она. И есть ли у таких, как я, право жить после? Но все это риторические вопросы. Потому что нет ей конца и, вероятно, никогда не будет. Джонни встал и ушел в темноту. Я знаю, он ушел плакать. Не по-мужски, по-детски взахлеб. Есть у него фотография семьи, где все улыбаются, но живой из них только Джо. Я бы тоже плакал, но слезы высохли километры дней назад, и осталась только пустота. Потрескивает шалун костерок и плюется дымом, у него терпко-сладкий еловый запах. Над миром склонилась тишина, лишь сверчки поют свои немудреные песни. И от этого еще больнее становится на душе, и без того уже истерзанной в хлам, хочется выть и бежать. Бежать сломя голову, куда угодно. Но выхода нет. От нее не скрыться.
***
Наша тройка должна захватить небольшой домишко и удерживать его до потери пульса. Если удастся — это будет тактической победой, нет — дадут медаль. Посмертно. Мы ползем. До домика метров пятьсот. Немного. Но там засел пулеметчик с расчетом. Хреново. Солнце село полчаса назад, быстро темнеет. Это — рулез, как говорит Джонни. Мы ждем. Стемнело. Мы разделились. Серега кивнул нам и пополз первым, прямо к дому. Я сжал плечо Джонни и взял немного правее, туда, где окошко. Джонни ждал. Трава вся выгорела. Сухие стебли режут руки, впиваются в тело. Я ползу. До окошка рукой подать. Я перевожу дыхание. Ищу глазами Серегу. Вон он — неясной тенью лежит у «парадного» входа. Отдыхает. Где Джонни? Джонни ждал, пока мы доберемся. Потом перекрестился и…
Мы взяли домишко. Серега жадно пьет воду из трофейной фляжки. Я слежу за подходами к дому. У Джонни нет лица. И никогда больше не будет. Он застрелился. Все тихо. За полминуты до обстрела можно подумать о чем-нибудь. Но не хочется. Хочется только одного — покоя. Думаю, Джонни тоже этого хотел. И выбрал единственно верный путь. Для себя. Может и мне…
Начался обстрел.
Неимоверный грохот миллионов обезумевших барабанов разорвал в клочья мои перепонки, а с ними и все тело. И я почувствовал смерть, как чувствовал первый кусок мяса, первый поцелуй или первое похмелье. У нее был омерзительно сладкий пряный вкус крови и яркий до боли цвет пустоты. Меня стошнило в себя, и блевотина желчным цветком разлилась по жилам, проникая глубоко в клетки и заполняя их вязким дерьмом. Я тонул в нем, захлебываясь в вони. Но вот что-то подхватило меня и понесло со все возрастающей скоростью. Я не сопротивлялся, желая досмотреть представление до конца. И зрение вернулось…
Вокруг была все та же многоцветная пустота, разбавленная кое-где сияющими точками-людьми, висящими в этом ничто и, если бы не ощущение стремительного ускорения, могло показаться, что мы — муравьи застывшие в янтаре. И, куда ни кинь взгляд, я видел их — людей истерзанных войной. Я посмотрел на свои руки — их не было, вернее, то, что от них осталось, нельзя было назвать руками. Я постарался оглядеть себя всего — меня осталось не более четверти от прежнего. Остальное съел взрыв. Я — кровавое месиво. Но, странно, мне не было ни плохо, ни неприятно. Для этого места мой вид был нормой. На минуту я прикрыл глаза и увидел неподалеку от себя Серегу. Больше всего он напоминал отбивную со странным отростком, похожим на человеческую голову. Я махнул ему культей, но он не заметил. Его тошнило. Я открыл глаза, и ничего не изменилось. Трудно избавится от возможности видеть, если нет век. И вот теперь я услышал стоны и обернулся. Джонни. Он был цел, но все так же без лица, сметенного пулеметной очередью. Вернулся слух. Я услышал стоны и мольбы, ругань и хохот, плач и причитания. И меня тоже разобрал горький смех…
Отупение и понимание: вот это и есть смерть, все, чего ты так боялся, оказалось лучше того, чем ты жил. Я увидел километры тел теплых и холодных, целых и не совсем, но невероятно живых. Я увидел свои руки все еще изъеденные ранами, но уже по четыре пальца красовалось на каждой, я закрыл глаза, и они закрылись.
Взглянул на Серегу — только двух ног не хватало до полного сходства. Он тоже увидел меня и закричал: — «Я не хочу!».
Моментально его швырнуло обратно, как если бы он на полной скорости дернул ручник. Один миг, и он скрылся из видимой мне части ничто. Я представил себе, как санитары натыкаются на вопящего от боли Серегу, уверенные, что секунду назад его здесь не было. «Чего ж ты, дурак, не дождался ног?» — говорю я, уже ощущая во рту зубы. Теперь и я могу крикнуть, пожелать вернуться, как делают некоторые из окружающих меня полутрупов, как сделал Серега. И хоть мне не достает лишь большого пальца левой ноги и скальпа, (да будь я хоть три раза цел!), я не буду кричать.
Потому, что я не хочу возвращаться. В ТУ ВОЙНУ. Потому, что я ей больше не принадлежу. Я цел до последней клетки. И я улыбаюсь. Я — дезертир. Я вижу Джонни. У него есть лицо и он тоже лыбится как идиот. По-моему, он счастлив. И в этом всё, что я хотел…